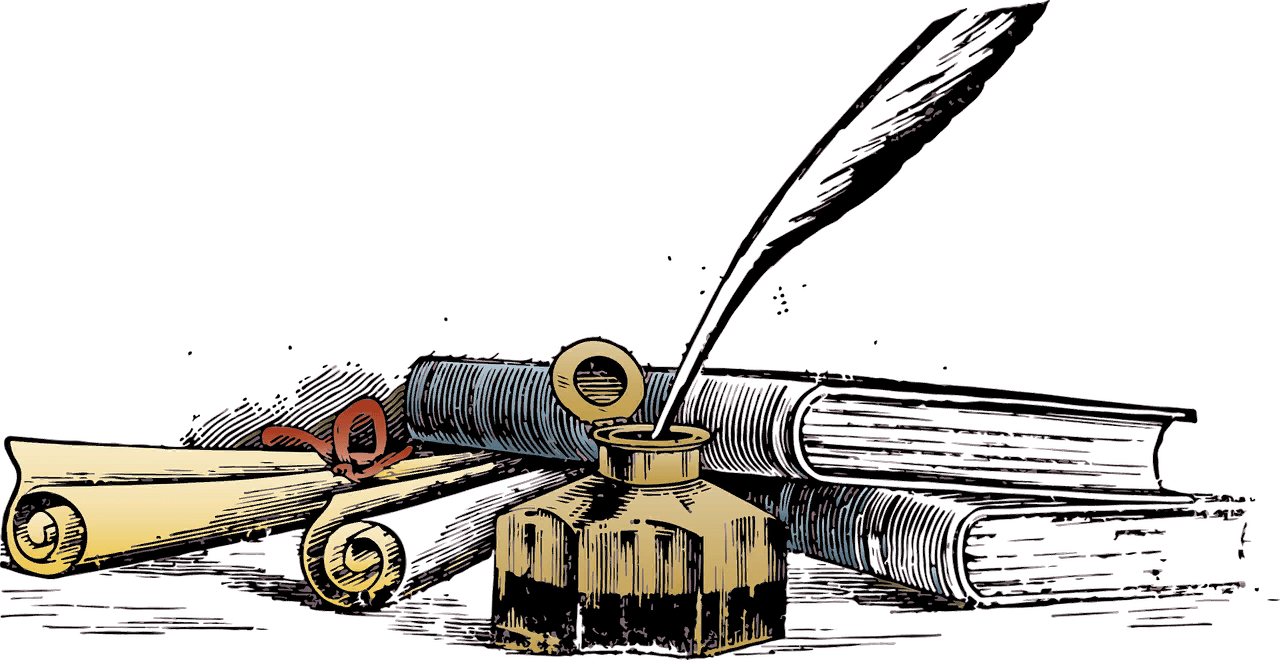Часы пробили трижды и упруго.
Настрой души от них расколот. Но
ложатся строчки первые для друга
на белое бумаги полотно:
«Ну, здравствуй, друг! Становится опасен
день, прожитый без твоего письма.
Хотя резон в твоём молчанье ясен:
ты был и раньше молчалив весьма.
Послушай, друг: ведь я давно не школьник.
Вгляделся, слава Богу, не слепой,
и вижу: жизнь проста, как треугольник,
как между точек двух кусок прямой.
Не Пифагором в ней углы закляты –
нам изменить их сумму выше сил.
Всю жизнь я примерял чужие латы,
чужую шпагу у бедра носил.
Мой друг, я не в обиде на Хайяма:
таким, как есть, себя я сделал сам.
Черкни хоть строчку своего бальзама,
хоть яда, если кончился бальзам».
Часы пробили раз... ещё четыре...
Холодный за окном встаёт рассвет.
Пишу тебе в пустой своей квартире,
где четверть века твоих писем нет.
Как много пробито! И никуда не деться.
Был первым твой удар средь этих лет.
Пишу тебе: не отпускает сердце.
Пишу туда, где, знаю, почты нет.


 каталог
каталог песни
песни об авторе
об авторе